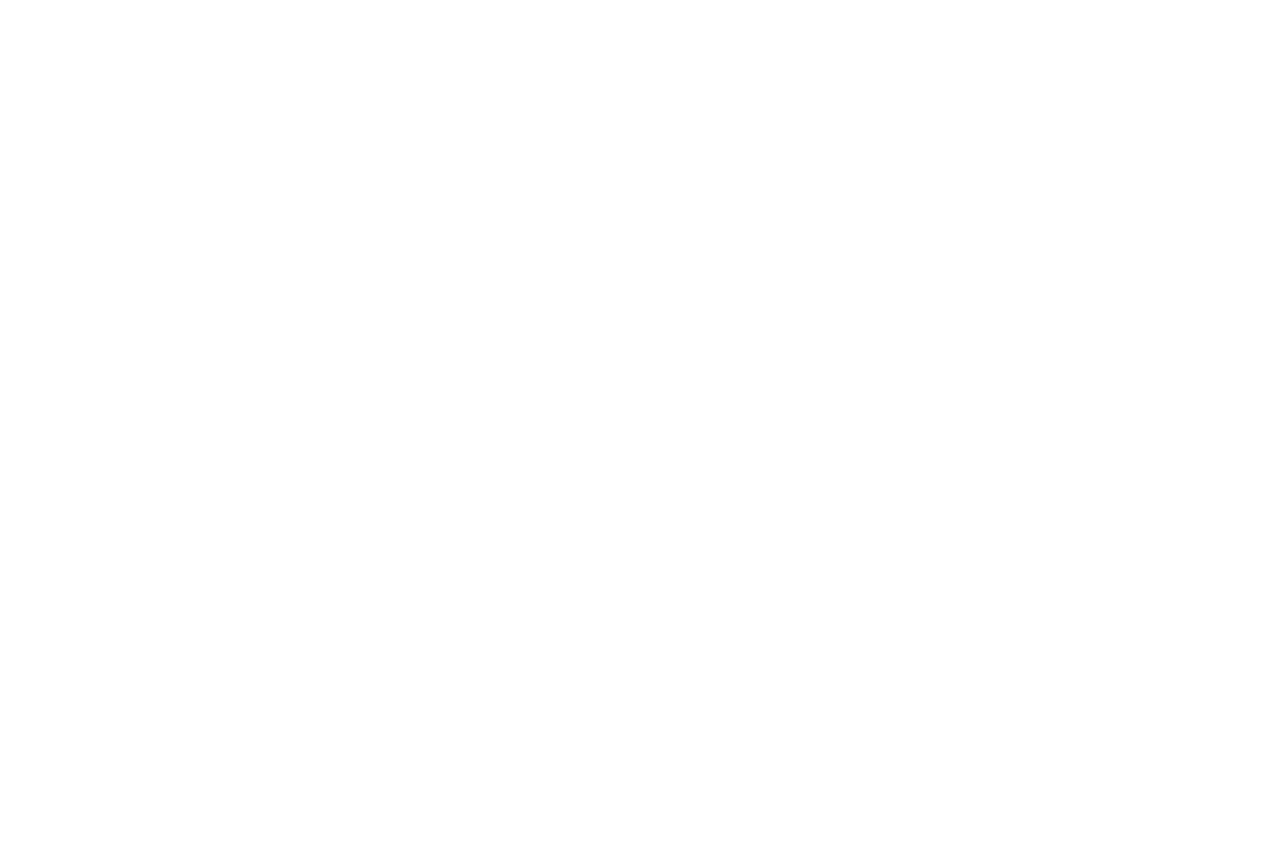Нет места для двух созвездий...
Нет места для двух созвездий на вязком клочке небес — мой свет в его мраке бледен, не виден сквозь лунный срез полотен алмазной ночи и млечных следов комет.
Те звёзды играли звонче.
Я был восхищённо слеп, позволив их снам проникнуть в пучины прикрытых глаз.
Я вновь остаюсь безликим, пред пламенем их склонясь, не веря, что так возможно манить, словно дикий хмель, смотря, как сгорает кожа от золота пылких стрел, как уголь на теле жжётся, без сил повернуться вспять.
Нет в мире второго солнца, способного так сжигать, так сердце сжимать и гладить, навек заточая в плен.
Мне больно в его объятьях.
Мне жаль истлевать совсем.
Пестреют заката крылья, сползая в графит земли. Луч скроется в прядях ивы и гнёздах репейниных игл, скользнув напоследок искрой по воску застывших рук, чтоб заревом серебристым опять засиять к утру, чтоб с мрамором ветра вместе раскрасить огнём восход.
Отставший от них на вечность, я вижу лишь горизонт, облепленный, словно тиной, полосками янтаря.
За ним можно лишь идти, но постигнуть его нельзя —
не тем, кто лишился воли, стремясь заступить за грань. Оттенком цветков левкоя затянут его хрусталь над бликом густой лавины.
Во мне нет ни роз, ни астр.
В глазах оседает иней.
Под сердцем бескрайний наст врезается в створки пульса и кутает стебли вен. С тем холодом я проснусь, но не стану, кем стать хотел, не высушу бисер слёз и тепло не волью в других.
Я создан не греть, а мёрзнуть в каморке душевных зим, как мёрзнет худое небо без солнечных ласк лучей, что вновь уплывают в небыль отблёскивать и желтеть, акрилом стекая где-то и сумрак собой пленя.
Нет места для двух рассветов, а, значит, погасну я.
Те звёзды играли звонче.
Я был восхищённо слеп, позволив их снам проникнуть в пучины прикрытых глаз.
Я вновь остаюсь безликим, пред пламенем их склонясь, не веря, что так возможно манить, словно дикий хмель, смотря, как сгорает кожа от золота пылких стрел, как уголь на теле жжётся, без сил повернуться вспять.
Нет в мире второго солнца, способного так сжигать, так сердце сжимать и гладить, навек заточая в плен.
Мне больно в его объятьях.
Мне жаль истлевать совсем.
Пестреют заката крылья, сползая в графит земли. Луч скроется в прядях ивы и гнёздах репейниных игл, скользнув напоследок искрой по воску застывших рук, чтоб заревом серебристым опять засиять к утру, чтоб с мрамором ветра вместе раскрасить огнём восход.
Отставший от них на вечность, я вижу лишь горизонт, облепленный, словно тиной, полосками янтаря.
За ним можно лишь идти, но постигнуть его нельзя —
не тем, кто лишился воли, стремясь заступить за грань. Оттенком цветков левкоя затянут его хрусталь над бликом густой лавины.
Во мне нет ни роз, ни астр.
В глазах оседает иней.
Под сердцем бескрайний наст врезается в створки пульса и кутает стебли вен. С тем холодом я проснусь, но не стану, кем стать хотел, не высушу бисер слёз и тепло не волью в других.
Я создан не греть, а мёрзнуть в каморке душевных зим, как мёрзнет худое небо без солнечных ласк лучей, что вновь уплывают в небыль отблёскивать и желтеть, акрилом стекая где-то и сумрак собой пленя.
Нет места для двух рассветов, а, значит, погасну я.
Холод
Холод под кожу врезается снежным коршуном.
Жизни биение так же вокруг размеренно.
Я гляжу в небо, в трещины кровли вмёрзшее, слушая ветер, к смерти зовущий тенором, что утопает в пологе вязкой стужи, и
мир исчезает в сбившихся очертаниях.
Это не танец искр в январском кружеве,
это моё отражение в белом пламени, словно забывшее зарева мглу прощальную, ждущее в звёздах поступь янтарно-рыжую.
Так всё покинуто, словно осколком айсберга снег обволок мои кости почти недвижные.
Дней безразличие стало безмолвно-серое —
вместе со мной в тишину и сонливость ввергнуто.
Термы сознания прочно сковало тлением.
Я вижу призраков чаще, чем труп из зеркала.
Грани стираются. Тьма обрела дыхание.
Падая на спину, слышен лишь хруст реальности.
Вьются кометы;
я по ночам взвываю к ним, но ни одна перед окнами не появится.
Блики из памяти выжечь пытаюсь спичками заиндевевшими пальцами под одеждой, но в сердце останется след миражей арктических,
и ничего не вернётся к обличью прежнему.
* * *
Бред одиночества — мой нераздельный спутник, что так безжалостно льдом на губах синеет.
Этой зимой я обрёк свои сны на вьюгу,
и никогда
им отныне
не стать
теплее.
Жизни биение так же вокруг размеренно.
Я гляжу в небо, в трещины кровли вмёрзшее, слушая ветер, к смерти зовущий тенором, что утопает в пологе вязкой стужи, и
мир исчезает в сбившихся очертаниях.
Это не танец искр в январском кружеве,
это моё отражение в белом пламени, словно забывшее зарева мглу прощальную, ждущее в звёздах поступь янтарно-рыжую.
Так всё покинуто, словно осколком айсберга снег обволок мои кости почти недвижные.
Дней безразличие стало безмолвно-серое —
вместе со мной в тишину и сонливость ввергнуто.
Термы сознания прочно сковало тлением.
Я вижу призраков чаще, чем труп из зеркала.
Грани стираются. Тьма обрела дыхание.
Падая на спину, слышен лишь хруст реальности.
Вьются кометы;
я по ночам взвываю к ним, но ни одна перед окнами не появится.
Блики из памяти выжечь пытаюсь спичками заиндевевшими пальцами под одеждой, но в сердце останется след миражей арктических,
и ничего не вернётся к обличью прежнему.
* * *
Бред одиночества — мой нераздельный спутник, что так безжалостно льдом на губах синеет.
Этой зимой я обрёк свои сны на вьюгу,
и никогда
им отныне
не стать
теплее.
Осень
Осенний шаг сбавляет свой порыв, к престолу возвращаясь обновлённым; окрасив воздух в жёлтый перелив, качает листья ясеня и клёна и стягивает почвенный рельеф, взбираясь через ливневые стены.
Осенний гром, пожалуй, слишком смел.
Осенний шёпот робок до предела, когда прохлада ветреной волной сбивает его мерные сонеты.
Дождливой птицей отзвук грозовой пикирует на сомкнутые веки, срывая маски, словно звездочёт, откинувший небесную завесу;
встревоженно садится на плечо и так же упорхает бессловесно, лишь бросив взгляд сквозь вихревый разбег с осколками трепещущего танца — узнать бы, где потерян его след, да только не догнать, не удержаться; забыть бы о полёте его стрел, да только когти впились в бедный мускул.
Редеет ярко-рыжий фейерверк. С горячностью, как вырвавшийся узник, вздымается дыхание костра, скользнувшее по тропам лейтмотивом.
В ветвях едва виднеется обман, но ложь их удивительно красива, как смерть прекрасна в призраке лесов, застывших отголосками распада.
И птичий клин летит наискосок над обликом из яшмы и агата,
что в мареве за дымкой огневой становится совсем неузнаваем: не выточен надломленной рукой, не создан, не продуман до деталей — от этого и меркнет на глазах при первом отзеркаленном движенье,
как тает бледно-солнечный расплав в листве окраски выжженной шагрени, не силясь возвратить себя из тьмы опасных, но пленительных объятий
(неважно, что скрывается внутри:
узнать об этом — значит потерять их).
И что же? Остаётся наблюдать за плавным искажением пропорций,
как скоро облачаются друзья во фраки отрешённых незнакомцев,
как прячется асфальтовый корсет под тленом желтокрылых листопадов; всё так же с их ладоней льётся свет, но, жаль, он не окажется преградой от чар ветров, что выпустили мрак в бездонность глаз, застывших неподвижно.
И осень замолкает в холодах, где шелест её мантий еле слышен, пустив до первых сумерек отсчёт за краем вновь покинутых полесий —
молчит, не умоляя ни о чём,
лишь дать ей шанс окончить свою песню.
Осенний гром, пожалуй, слишком смел.
Осенний шёпот робок до предела, когда прохлада ветреной волной сбивает его мерные сонеты.
Дождливой птицей отзвук грозовой пикирует на сомкнутые веки, срывая маски, словно звездочёт, откинувший небесную завесу;
встревоженно садится на плечо и так же упорхает бессловесно, лишь бросив взгляд сквозь вихревый разбег с осколками трепещущего танца — узнать бы, где потерян его след, да только не догнать, не удержаться; забыть бы о полёте его стрел, да только когти впились в бедный мускул.
Редеет ярко-рыжий фейерверк. С горячностью, как вырвавшийся узник, вздымается дыхание костра, скользнувшее по тропам лейтмотивом.
В ветвях едва виднеется обман, но ложь их удивительно красива, как смерть прекрасна в призраке лесов, застывших отголосками распада.
И птичий клин летит наискосок над обликом из яшмы и агата,
что в мареве за дымкой огневой становится совсем неузнаваем: не выточен надломленной рукой, не создан, не продуман до деталей — от этого и меркнет на глазах при первом отзеркаленном движенье,
как тает бледно-солнечный расплав в листве окраски выжженной шагрени, не силясь возвратить себя из тьмы опасных, но пленительных объятий
(неважно, что скрывается внутри:
узнать об этом — значит потерять их).
И что же? Остаётся наблюдать за плавным искажением пропорций,
как скоро облачаются друзья во фраки отрешённых незнакомцев,
как прячется асфальтовый корсет под тленом желтокрылых листопадов; всё так же с их ладоней льётся свет, но, жаль, он не окажется преградой от чар ветров, что выпустили мрак в бездонность глаз, застывших неподвижно.
И осень замолкает в холодах, где шелест её мантий еле слышен, пустив до первых сумерек отсчёт за краем вновь покинутых полесий —
молчит, не умоляя ни о чём,
лишь дать ей шанс окончить свою песню.
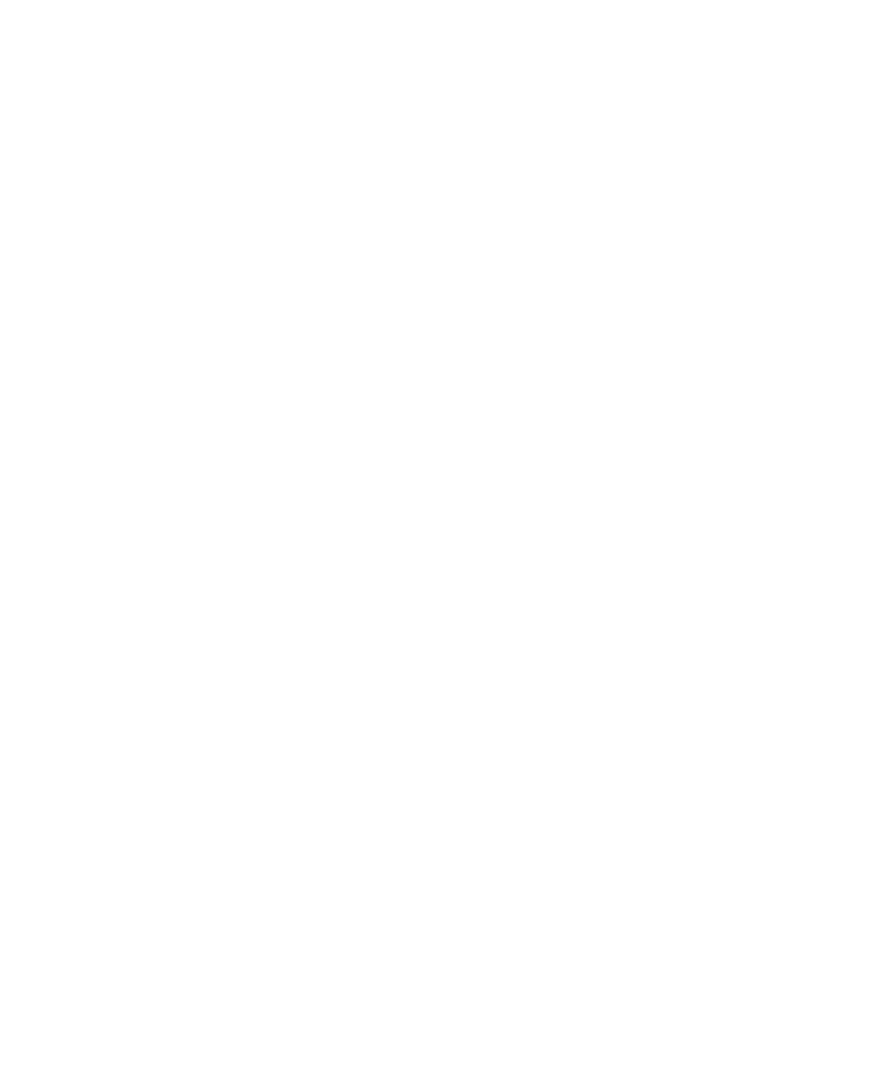
Сгорает вечер...
Сгорает вечер в слезах июня, прельщая воздух лучей сонатой; под взмахом шлейфа осколков лунных я вижу тени её заката, чей смутный отблеск мерцал багрянцем, окутав небо глухой накидкой...
Я выбрал гаснуть в твоём сиянье, и твои трели мне стали пыткой. Рулады с клавиш я пью безвольно, поддавшись скорби витых piano. Твоё сознание — россыпь боли; надрывы строк оплетают раны, что, целясь в сердце безмерно чутко, свои же струны нещадно гложут.
Я так хотел их вколоть в рассудок, терновой ветвью вживив под кожу, сорвать всё это с твоих ладоней... Едва ли дрогнет подгнивший мускул —
огнём твоим я навеки сломлен.
(Я так хотел бы тобой проснуться, припасть к аккордам горящих мыслей и совершенства познать истоки!)
Твой нимб запятнан завесой мглистой, сокрывшей пламя в кровоподтёках,
случайно сорван когтями бездны,
разодран в клочья бредовых маний.
Так почему же настолько резко священный лик твой терзает память?
Ведь мой всё так же пленяет холод: на ощупь — болен, на вид — бесстрастен.
Бессильный ветер ведёт мой голос, сжимая сумрак в аркан объятий; созвездий искры альбитом стынут, а полночь смолью на веки льётся...
Но что мне внемлить её мотивам, когда однажды я встретил солнце?
Я выбрал гаснуть в твоём сиянье, и твои трели мне стали пыткой. Рулады с клавиш я пью безвольно, поддавшись скорби витых piano. Твоё сознание — россыпь боли; надрывы строк оплетают раны, что, целясь в сердце безмерно чутко, свои же струны нещадно гложут.
Я так хотел их вколоть в рассудок, терновой ветвью вживив под кожу, сорвать всё это с твоих ладоней... Едва ли дрогнет подгнивший мускул —
огнём твоим я навеки сломлен.
(Я так хотел бы тобой проснуться, припасть к аккордам горящих мыслей и совершенства познать истоки!)
Твой нимб запятнан завесой мглистой, сокрывшей пламя в кровоподтёках,
случайно сорван когтями бездны,
разодран в клочья бредовых маний.
Так почему же настолько резко священный лик твой терзает память?
Ведь мой всё так же пленяет холод: на ощупь — болен, на вид — бесстрастен.
Бессильный ветер ведёт мой голос, сжимая сумрак в аркан объятий; созвездий искры альбитом стынут, а полночь смолью на веки льётся...
Но что мне внемлить её мотивам, когда однажды я встретил солнце?